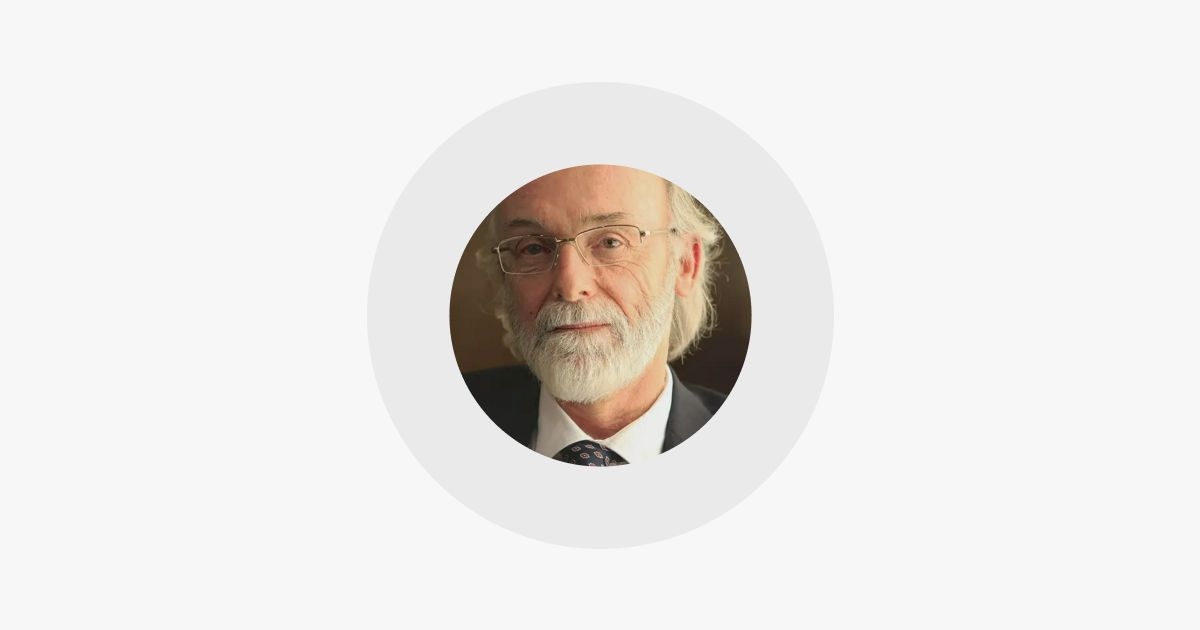Лотреамон. Нечестивая молодежь

Перевод Педро Тамена произведения, разрушительная ярость которого раздается с конца XIX века и которое решительно запечатлело всю литературу с тех пор, возвращается на прилавки книжных магазинов, увенчав печатью «Песен Мальдорора», произведение, которое в своем четвертом издании сопровождается хирургическим вмешательством Рене Магритта — серией рисунков, нацарапанных ногтем на стенах комнаты, где этот душераздирающий вой снова можно услышать в наши дни в соответствии с интонацией и ненавистью каждого нового читателя.
Лотреамон был провидцем, когда заявил: «Пока я пишу, в интеллектуальной атмосфере проносятся новые мурашки; вопрос только в том, чтобы набраться смелости и встретиться с ними лицом к лицу». В то же время, оглядываясь вокруг, в письме, написанном им в 1870 году, он выразил огромное презрение к состоянию поэзии: «Поэтические стоны этого века — не что иное, как ужасная софистика. Воспевать скуку, боль, печаль, меланхолию, смерть, тень, неизвестность и т. д. — значит лишь хотеть непременно смотреть на детскую изнанку вещей. Ламартин, Гюго, Мюссе добровольно превратились в девушек. Они — Мягкие Головы нашего времени. Вечно нытье!» Ему, в возрасте чуть более двадцати лет, пришлось внести изменения в тяжелую летаргию этой среды, вызвав «массовое короткое замыкание» (Супо). Если Аполлинер не сомневался, утверждая, что его юность была обязана ему больше, чем Рембо, то именно Бретон лучше всех понимал бесконечные последствия вспыльчивого эпоса, который он наслал, словно чуму, на французскую литературу, произведение, в высшей степени деморализовавшее литературный престиж: «Слово, больше не понимаемое как стиль, вступает в фундаментальный кризис с Лотреамоном; оно знаменует новое начало. Границы, в которых слова могли соотноситься со словами, а вещи с вещами, подошли к концу. Принцип постоянной мутации овладел как объектами, так и идеями, стремясь к их полному освобождению — что также подразумевает освобождение человека. В этом смысле язык Лотреамона одновременно является растворителем и зародышевой плазмой без эквивалента». Но в строго критических терминах, оставляя в стороне апостольское рвение, только в 1950 году и в «Лотреамоне и Саде» Бланшо все стало яснее. Бланшо первым осознал, что главным героем «Песни» является читатель — читатель, в которого превращается Лотреамон, описывая свое удивительное приключение. Во тьме Зла действует «неумолимая логика», точно так же, как будет действовать столь же неумолимая логика в апологии Добра. Человек — зло, тот, кто его создал, — зло; все безупречно лихорадочные строфы «Песни» напоминают нам об этом с математическим мастерством бреда, поданным террористическим юмором. Серьезно ли это? Да, очень даже. Комично ли это? Точно так же. Это то, что навсегда дезориентирует человека. С этого момента царит ржавчина сомнения, действующая на все и никогда больше ничему не позволяющая обрести неоспоримую власть. Сама идея классики стремительно рушилась. Но через эту бурную инверсию, отдав первенство читателю, мы вошли в действительно многообещающую главу... Пусть придет, потребовал Лотреамон, и он появился в таком состоянии, предупреждая: Пришло время размыть дискурс и метод, не решать, где он начинается или заканчивается, а скорее, чтобы каждый подошел с той стороны, которая больше всего его интригует. Никаких хронологий, колода настолько запутанная, что она даже не стоит того. Места, имена — только чтобы еще больше отвращать от определенности. Сомнение, да, всегда позволяет нам открывать новые пути. И, таким образом, вы тоже решите, чего хотите. Появился роман, вывернутый наизнанку, который дал ключ к тому, чтобы перевернуть все с ног на голову, антироман, курс, который следует посредством обходных путей, как сюжет, который всеми силами избегает быть обусловленным разумом, предпочитая вместо этого приносить войну. Он дает или не дает, оставляя место для других, чтобы присоединиться к поездке. Это дорога, но она никуда не ведет. И, без сомнения, у него была лихорадка. Он был охвачен безумным упрямством, и, возможно, эта степень галлюцинации позволила ему увидеть и услышать то, что иначе невозможно увидеть или услышать. «Песни» — это письма одного читателя к другим, возвещающие о начале восстания по отношению к текстам, к освящению, к этому окаменевшему уважению и восхищению. Это абсолютно несоразмерные письма, которые показывают нам, как худшим, самым невыносимым будет это непрерывное движение, этот режим авторов, монументальность литературных достижений. С этого момента дерзость, отвага возьмут на себя инициативу. Можно позволить себе все вольности, не спрашивая разрешения. Лучше также стереть пустую сумму наших местоимений. Никто не должен быть обвинен, это необходимое оскорбление, которое выигрывает от того, что его совершают все. «То, что он ищет», — говорит нам Бланшо, — «это свет, который равен во всех своих точках, одинаков для всех, и где, будучи примиренными, «все» является для каждого истиной, полной видимостью которой «каждый» был бы». Ну, вот мы и видим этот свирепый импульс, этот жест, который противен схемам и литературным историям, которые становятся чем-то, от чего нужно отказаться. Арагон в громкой двойной статье, реагируя на книгу, изображающую предшественников сюрреалистического движения, был вынужден вспомнить свою юность, встречу с Бретоном в возрасте 20 лет в Валь-де-Грасе: бдения в качестве вспомогательных врачей в «комнате для больных», среди безумцев. Он вспоминал, как они были ошеломлены « Песнями Мальдорора» , как они декламировали их вслух во время немецких бомбардировок Парижа. «Иногда за запертыми дверями безумцы выли, оскорбляя нас, стуча кулаками по стенам. Это придавало тексту непристойный и удивительный комментарий». Вскоре после этого, в 1919 году, Бретон полностью скопировал « Стихи» в Bibliothèque Nationale. Наконец, они были опубликованы в журнале Littérature : движение было запущено.
Но что мы знаем о человеке, который написал это произведение, которое было почти утеряно, только чтобы внезапно появиться вновь с поразительным акцентом и влиянием, о человеке, который написал его в неизвестное время в комнате на пятом этаже? Только некоторая далекая и косвенная информация, слишком неполная, которая укрепляет дыру, куда был прибит единственный имеющийся у нас портрет Исидора Дюкасса. И он, кажется, сделал все, чтобы быть реальным только на словах, которые были единственной субстанцией его жизни. Таким образом, мы знаем о человеке, который первым воспользовался анонимностью, и который, публикуя издание Полных песен (1869), подписался как «Граф Лотреамон», в то же время, как сумасшедший Мальдорор сделал двусмысленную проекцию себя, что он родился в Монтевидео, у французских родителей, в 1846 году, и что его мать умерла, когда ему было еще несколько месяцев. В возрасте 13 лет отец отправил его учиться во Францию. Он учился в двух средних школах, а затем появился еще один пробел, долгий период, в течение которого мы потеряли его след. Но, возможно, нам следует начать с конца. Мы знаем, что в восемь утра 24 ноября 1870 года, в возрасте 24 лет, Дюкасс умер в гостиничном номере в Париже, который он оплачивал из карманных денег, которые ему присылал отец. В то время, когда Франция была в состоянии войны, а столицу осаждали прусские батальоны, голод, холод и лихорадка делали смерть слишком обычным явлением; кладбища казались жадными. Даже могилу этого молодого человека так и не нашли. Предполагается, что он умер от чахотки, и его тело было похоронено во временной могиле, прежде чем через несколько недель его перенесли в братскую могилу, что было самой распространенной процедурой в то время в контексте эпидемического распространения туберкулеза. Таким образом, как указывает Бланшо, «конец Лотреамона сохраняет что-то нереальное». «Засвидетельствованное только словом закона и кратким упоминанием в свидетельстве о смерти, «умер… без дальнейших сведений», максимально приближенным к банальности, кажется, что этот конец отсутствует, как будто он не должен был произойти, чтобы иметь место. И именно через этот конец, столь странно стертый, Лотреамон стал навсегда тем невидимым способом проявления, который является его одинокой фигурой, и именно в анонимности смерти, на глазах у всех, он, наконец, проявил себя, как будто, исчезнув в таком сияющем отсутствии, он затем нашел смерть, но также, в смерти, точный момент и истину дня».
С публикацией памфлета с первой Песнью в 1868 году Дюкасс представился своим гипотетическим читателям под знаком трех звезд («***»), представив эту уловку, которая позволила ему абстрагироваться, поместив на передний план этого «Песни Мальдорора», чья возвышенная внешность предстает как элемент бунта, в дерзости, пародирующей элементы мифа, производя шокирующий эффект, который сделал его, по словам Грака, «великим срывателем современной литературы». Поместив на один уровень поток крови, настроений, это сотрудничество между терпением и насилием, которое есть рождение, Лотреамон, казалось, окончательно оттолкнул Исидора Дюкасса, рожающего, как предполагает Бланшо. «Но для тех, кто хочет стать хозяевами своего происхождения, вскоре становится ясно, что рождение — это бесконечное событие». Призвав целый бестиарий, чтобы дать выход своим агрессивным импульсам, он будет использовать эти «детски наблюдаемые формы животных» в качестве инструментов атаки и пресуществления. Таким образом, он берет на себя самую радикальную инициативу. Это потому, что у Лотреамона, как указывает Гастон Башляр, слово немедленно находит действие. «Некоторые поэты пожирают или усваивают пространство; можно сказать, что им всегда приходится переваривать вселенную. Другие, гораздо менее многочисленные, пожирают время. Лотреамон — один из величайших пожирателей времени. В этом секрет его ненасытной жестокости». И если события, описанные в ней, противопоставляют существа без какой-либо общей меры кажущейся человечности Исидора Дюкасса, для Башляра очарование этой бесчеловечной басни связано с тем, как она заставляет нас вновь переживать «жестокие импульсы, которые все еще так сильны в сердцах людей». На этих страницах Мальдорор становится орлом, крабом или омаром, стервятником, сверчком, осьминогом, акулой — волосы падают на пол — лампа плывет или летит с ангельскими крыльями. И как говорит Грак, «самая постоянная черта этих нестабильных существ и их глубокий смысл, вероятно, заключается в проявлении возможности земноводной жизни — которую весь гений Лотреамона стремится узаконить — всегда извлекая кислород между двумя водами: между беспричинностью безобидных мечтаний и возможностью мучительного вторжения в мир, где мы так удобно устроились. Переход от призрака к монстру, таким образом, осуществляется благодаря образцовой передаче жизненного дыхания».
Но к чему весь этот клубок цитат? Было бы несколько абсурдно пытаться передать хоть что-то из того катаклизма восторга, который окружает Лотреамона, португальскому читателю сегодня, когда он видит, как лучший перевод «Песни и поэмы» из когда-либо сделанных вновь появляется, впервые сопровождаемый свирепыми и соучастными рисунками Рене Магритта, не осознавая, что это способно высвободить, принимая пульс прочтений, которые, более чем навязывая это в высшей степени неудобоваримое произведение публике, поочередно великолепно резонировали с возможностями этого сюжета, до такой степени, что некоторые из тех, кто чувствовал себя обязанным комментировать и следовать этому движению, делая это с образцовым рвением, казалось, были обязаны следовать ему, как будто принимая и адаптируя его импульс, подпитывая расширение этого дьявольского повествования. В конечном счете, то, что хочет сделать эта работа, — это проникнуть под кожу читателя, поразить его нервы, раскручивать один стимул за другим, быть причиной интимного скандала и задавать ритм, который чужд всему, поэзию волнения, которая ищет ту поэтическую силу и скорость, что есть у умирающего времени. Таким образом, она приходит, чтобы преследовать нас, она приходит и оставляет впечатление, что «кошмар овладел пером», становясь гораздо более неотразимым «благодаря своей длине и развитию (поскольку длительность имеет существенное значение в этом усилии), чем «Озарения » Рембо», как говорит нам Бланшо. «Вот почему нам кажется столь важным читать «Песни Мальдорора» как прогрессивное творение, созданное во времени и со временем, как непрекращающееся произведение , которое Лотреамон, несомненно, ведет туда, куда хочет, но которое также ведет его туда, куда он не знает, о котором он может сказать: «Давайте последуем за течением, которое нас несет», не потому, что он позволяет слепой и яростной силе нести себя по течению, а потому, что эта «тянущая» сила произведения есть его способ быть впереди самого себя, предшествовать самому себе — само будущее его ясности в трансформации».
«– О чем ты думаешь, мальчик?
– Я думал о рае.
– Не надо думать о небе, достаточно думать о земле. Тебе надоело жить, ты, кто только что родился?
– Нет, но все предпочитают небо земле.
– Ах, но не я. Потому что если небо было создано Богом, как и земля, то вы можете быть уверены, что найдете там то же зло, что и в этом мире. После вашей смерти вы не будете вознаграждены по вашим заслугам, потому что если они несправедливы к вам здесь, на земле (как вы позже узнаете из опыта), нет никаких причин, почему они не должны быть несправедливы в следующей жизни. Лучшее, что вы можете сделать, это не думать о Боге и вершить свою собственную справедливость, поскольку другие отказываются делать это по отношению к вам. Если бы кто-то из ваших коллег обидел вас, разве вы не захотели бы убить его?
– Но это запрещено.
– Это не так запрещено, как вы думаете. Все, что вам нужно сделать, это не дать себя обмануть. Справедливость закона ничего не стоит; имеет значение только юриспруденция оскорбленной стороны. Если бы вы ненавидели одного из своих коллег, разве вы не были бы несчастны, представляя, что можете иметь его мысли перед глазами в любой момент?
- Это правда.
– Вот вам один из ваших коллег, который делает вас несчастным всю вашу жизнь; ибо, видя, что ваша ненависть только пассивна, он будет продолжать издеваться над вами и причинять вам вред безнаказанно. Поэтому есть только один способ положить конец ситуации: избавиться от вашего врага. Вот к чему я хотел прийти, чтобы заставить вас понять, на какой основе основано сегодняшнее общество. (…) Когда пастух Давид ударил великана Голиафа в лоб камнем, брошенным из пращи, неудивительно, что только хитростью Давид победил своего противника, и что если бы, наоборот, они вступили в рукопашную, великан раздавил бы его, как муху. То же самое относится и к вам. В открытой войне вы никогда не сможете победить людей, которым вы хотите навязать свою волю; но хитростью вы можете сражаться в одиночку против всех. (…) Добродетельные и добродушные средства ни к чему не приводят. Необходимо использовать более энергичные рычаги и более мудрые заговоры. Прежде чем ты прославишься своей добродетелью и достигнешь своей цели, найдется сотня, которая успеет сделать пируэты над твоей спиной и достичь конца дистанции раньше тебя, так что для твоих узких идей уже не будет места. Ты должен уметь шире охватить горизонт настоящего времени».
Мы ощущаем элемент ужаса в богохульном споре, который разворачивается, и на каждом шагу, с каждым новым предложением он набирает обороты, упиваясь экстазом своего гневного ритма, своим желанием мести, ставя в его основу чувство ненависти, превращая свой крик в длинный заговор, форму опьянения. И, как будто боясь потерять свое мужество, звериный элемент, кажется, направляет его, как будто вызывая эти агрессивные знаки, чтобы обозначить эту яростную нетерпимость к человеческим слабостям, к этому состоянию, которое он стремится унизить всеми средствами. Таким образом, как объясняет Башляр, «именно изнутри животность наблюдается в вопиющей форме в ее зверском, непоправимом жесте, рожденном чистой волей». И он добавляет, что именно «с того момента, когда можно создать поэзию чистого насилия, поэзию, которая неистовствует с полной свободой воли», мы должны считать Лотреамона предшественником. Другие законы управляют этой огромной комнатой, где вдыхаешь черный воздух, который изменяет легкие, который преобразует нервные центры, и идеи ведут к динамическому и яростному сенсуализму, к экзальтации, которая, как алкоголь, снимает те запреты морального порядка, которые делают нас, в конце концов, такими покорными существами, такими тронутыми своей наивностью и такими легко обманываемыми. Он, кажется, признает, что некий чувствительный элемент послужил для того, чтобы пристрастить нас к набору представлений, которые делают нас добычей тех, кто освободился от этих комплексов. Таким образом, обращаясь к тому, кто всегда верил, что он состоит из добра и минимального количества зла, и кто поэтому живет в несогласии со своими импульсами, он внезапно показывает, что он, напротив, состоит только из зла и минимального количества добра, увлекая его в безумие метаморфозы, которая в конце концов вырывает его из его бесформенности, делая его способным совершать энергичные поступки, покоряя другое движение, то есть новое время. По его мнению, необходимо освободить это «блистательное величие», чтобы человек увидел себя «возвращающим себе, как право, свою разрушенную метаморфозу». Таким образом, переворачивая положения общепринятой морали, через «Песни Мальдорора» он предлагает нам это откровение, полное последствий: «Метаморфоза никогда не являлась моим глазам, кроме как высоким и величественным звучанием совершенного счастья, которого я долго ждал. Это, наконец, явилось в тот день, когда я стал свиньей!»
Невозможно по-настоящему понять интимное зрелище этой «прогрессирующей кататонии» (Башелар), в которой оказываются люди, полностью охваченные медлительностью, которую Лотреамон считал глубочайшим из зол, поражающих нас, этим оцепенением, которое приводит нас к бессилию и покорности, и невозможно восхищаться наглостью «Песни», не осознавая, что насилие — это выражение желания жить, поляризующее жизненные силы, этот дух, который был похоронен. Вот почему он намеревался спровоцировать второе падение и продолжает совершать эту позорную работу, которая провоцирует это желание атаковать и последующую реализацию метаморфозного побега, если использовать терминологию Башляра. Таким образом, и признавая, что «человек также умирает от зла быть человеком, слишком рано и слишком скоро, забыв, короче говоря, что он может быть духом», нам представляется все это «неукротимое паломничество», эта «полиморфная животность», которая соответствует бредовым формам, последовательному элементу, в котором функция вдохновляет и создает орган, и мало-помалу полностью переделывает наше состояние. «Человек тогда предстает как сумма жизненных возможностей», говорит нам Башляр, полностью принимая на себя привилегию сделать изобретение зла своим собственным.
«О чем думал Лотреамон в ту ночь, когда написал первые слова: «Если бы на небесах...»?» — спрашивает Бланшо. «Недостаточно сказать, что в тот момент он еще не полностью сформировал память о шести песнях, которые собирался написать. Необходимо сказать больше: не только шесть песен еще не были в его голове, но и эта голова еще не существовала — и единственной целью, которая могла быть у него в то время, была эта далекая голова, эта надежда на голову, которая в момент, когда писались «Песни Мальдорора» , дала бы ему всю необходимую силу, чтобы написать ее. (…) Есть ли еще какое-либо произведение, которое, как это, с одной стороны, полностью зависит от времени, изобретает или открывает свой смысл по мере написания, тесно связано с его продолжительностью, но при этом остается этой массой без начала и конца, этой вневременной последовательностью, этой одновременностью слов, где все следы до и после кажутся стертыми и забытыми навсегда?»
Здесь есть разрыв, который стал осью, фундаментальным узлом современности, и который зависел от этой перспективы, преодолевающей «детскую изнанку вещей», испытывающей душераздирающую радость, и, кажется, для того, чтобы этот решительный акт был совершен, да и то тайным и насильственным образом, литература делегировала его молодому сыну канцлера Дюкасса, отправленному из Монтевидео во Францию на учебу, как предполагает Роберто Калассо. В одном из самых захватывающих эссе, и, возможно, одном из последних, пополнившем этот бурный поток чтений, стремившихся соответствовать этому зловещему пророчеству, он пытается немедленно поставить нас в положение по отношению к другим безобразиям, которые в то время предполагали всеобщий переворот в совести: «Есть нулевая точка, скрытый надир 19-го века, который достигается, и никто этого не замечает, когда неизвестный молодой человек публикует «Песни Мальдорора» за свой счет в Париже. На дворе 1969 год: Ницше пишет «Рождение трагедии» , Флобер публикует «Воспитание чувств» , Верлен публикует «Галантные празднества» , Рембо пишет свои первые стихи. Однако происходит нечто еще более радикальное…» Сегодня мы уже знаем и, к сожалению для нас, мы видели пример этого молодого человека, который в возрасте 23 лет предположил, что псевдоним сведен к еще одной несколько отсталой легенде. Лотреамон, который сказал, что он заключил «договор с проституцией, чтобы посеять разлад в семьях», восхваляя педерастию, вампиризм, жестокость и призывая к каннибализму, в серии заявлений, которые сегодня считаются несколько безумными, говоря о довольно ошибочной прозаической поэме, но которая выражает стремление к провокации, которое должно было сопротивляться, как лампа, дико качающаяся в самом темном углу, позволяя нам мельком увидеть ту фигуру, которая, кажется, улыбается и чье «пагубное дыхание» по мере нашего приближения становится все тяжелее и тяжелее. Правда в том, что Исидор дал очень большую сумму (четыреста франков) бельгийцу Альберу Лакруа, издателю Золя, чтобы тот напечатал «Песни», и если он получил их и напечатал, в какой-то момент он должен был осознать риск, которому он подвергнется, распространяя эту работу, и передумал. Как рассказывал в письме сам Лотреамон, Лакруа «отказался публиковать книгу, потому что жизнь была изображена в слишком горьких тонах, и он боялся генерального прокурора». Было почти наверняка, что он будет втянут в судебный процесс, и его страхи быть обвиненным в богохульстве и непристойности были более чем оправданы. «Но почему у Мальдорора был этот страх?», спрашивает Калассо и тут же намечает ответ: «Потому что эта книга первая — без акцента — основанная на принципе подчинения всего сарказму. Следовательно, не только огромный сорняк того времени, который заставил насмешку торжествовать, но и произведение, к которому насмешка проявила все свое презрение: Бодлер, которого непочтительно определили бы как «болезненного любовника готтентотской Венеры», и который, как можно предположить, был любимым поэтом, непосредственным предшественником самого Лотреамона».
И он продолжает: «Последствия этого жеста ошеломляют: как будто все данные — а мир также является данными — внезапно были оторваны от своих подставок и начали блуждать в головокружительном словесном потоке, вызывая все безобразия, все комбинации, работой бесстрастного фокусника: пустого автора Лотреамона, который осуществляет тотальное, холодное, аннулирование идентичности, более строгое, чем у Рембо, который все еще был театральным. Умереть в возрасте двадцати четырех лет в съемной комнате на улице Фобор Монмартр, «без других исследований», как можно прочитать в «acte de décès» Лотреамона, — это более безрассудный и более эффективный риск, чем отказаться от писательства и отправиться продавать оружие в Африку».
Есть что-то раковое в подавляющей смеси, которая готовит эту «черную лирику», и, возможно, секрет, который объясняет шокирующий эффект, заключается не совсем в эффектах дистилляции, в утонченности проницательной и сладкозвучной поэтики, но даже в шершавом элементе, в выцветшей композиции, в этом магнетизме метаморфозы, которая поглощает и усваивает самые разрозненные вещи, подчиняя литературное сомнительному элементу, портя дискурс, с разрушительным рвением, которое предлагало сконструировать новые смыслы, беспощадно калеча старые концепции времени. И если, как показали последовательные попытки препарировать «Песни», произведение является результатом последовательности подделок, коллажей, необъяснимых вставок творчески измененных отрывков из других, плагиат по-прежнему остается одним из самых смелых элементов в особом стиле композиции, принятом Лотреамоном. Если в какой-то момент Супо даже показал, как он копировал целые абзацы из консервативной ежедневной газеты Le Figaro , по правде говоря, это нисколько не умаляет характера произведения, которое заставляет нас переживать ряд форм в огненном, головокружительном единстве, которое своей скоростью заставляет нас испытывать «невыразимое впечатление чувствительной ловкости в артикуляциях, угловатой ловкости», полностью противоположное общему изящному восторгу этих культиваторов чрезвычайно утонченного стиля. Здесь сила выбирает пожирание, с резкими и нерегулярными остановками, разрывами, чувством, отмеченным хищничеством, и которое ясно видно в том, как он встраивает отрывки из других авторов, не цитируя их, также доказав, насколько много бестиария, который появляется в «Cantos», было извлечено из научных описаний, обработано ими, галлюцинировано ими. Таким образом, в своей обширной диете Дюкасс, помимо того, что был ненасытным читателем произведений по естественной истории, также привнес в них механизмы тайны, типичные для интриг детективных или черных романов. «Именно его собственный язык становится таинственной интригой», — говорит нам Бланшо, «чудесно организованным действием, как в детективном романе, где величайшие неясности раскрываются в нужный момент, где театральные перевороты заменяются образами, необычные убийства — жестоким сарказмом, и где виновный путается с читателем — всегда пойманным на месте преступления».
Таким образом, агрессивность его метаморфозы отражает эту магнитную волну, которая радикально меняет саму последовательность традиции и литературные рамки, в которых появляется этот саркастический герой. Поэтому недостаточно сказать, что Лотреамон «связал свою судьбу с литературой», поскольку посредством плагиата он стремился «исчезнуть в слове другого», как говорит Бланшо, потому что это новое состояние, которое он предлагает читателю, позволяет ему глубоко влиять на судьбу и смысл произведений. «Плагиат необходим», утверждает он. «Этого требует прогресс. Он внимательно следует фразе автора, использует его выражения и устраняет ложную идею, заменяя ее правильным понятием». Эта одиозная фигура автора больше не будет защищена в своем статусе, его исключительная роль заключается в том, чтобы освещать и определять масштаб своего произведения. Теперь все было подвержено вторжению, внезапному нападению и способно использовать определенное убеждение, чтобы подорвать свои цели. Именно по этой причине качества, которые Лотреамон приписывает себе, таковы: холодное внимание , неумолимая логика , упрямая рассудительность , подавляющая ясность … И Бланшо подчеркивает, что значение этих качеств усиливается по мере того, как сгущается лабиринт его блеска, будучи качествами, которые он, как он утверждает, приобрел благодаря своим отношениям со святой математикой , но которые поначалу были ему чужды . Другими словами, гениальность больше не является необходимым условием, как и оригинальность, а скорее тем волнением того, кто нападает и овладевает энергичным и оппортунистическим образом тем, что ему не принадлежит. Существует хищный эффект, в котором осознаешь, что как читатель ты в состоянии подвергнуть текст изобилию дальнейших смыслов, направляя их в соответствии с беспорядком, способным призвать их к эффекту иррадиации, который гораздо более неожиданн, хаотичен, неограничен. Обеспечивая себя материалами, которые удовлетворяют эту потребность в пропитании и поддержании скорости и великолепия, которые не могут быть прерваны, чтобы все находило свою самую совершенную формулировку, вырывая из окружающего себя куски, которые ему нужны, чтобы оставаться пораженным, следовать и быть преследуемым, накапливая эффекты этой яростной ясности, чье движение вовлечения, охвата, продолжения без передышки в конечном итоге оказывается гораздо более возбуждающим для того, кто его читает.
«Как будто само понятие уровня было отменено», — предупреждает Калассо. Это потому, что внезапно станет уже не так легко сказать, что находится выше или ниже, где лежат действительно высокие ценности, а что можно проигнорировать, осудив как мусор. По его словам, Лотреамон был частым гостем у «несчастных писак: Санда, Бальзака, Александра Дюма, Мюссе, Дю Террайля, Феваля, Флобера, Бодлера, Леконта и Грева де Форжерона ». Эссеист, руководивший итальянским издательством Adelphi, отмечает, что «этот список должен сразу же предупредить нас о том, что готовится ловушка: изобретатель Рокамболя и изобретатель Госпожи Бовари помещены на один уровень с плодовитыми фельетонистами Февалем и Бальзаком, а также Бодлером и Франсуа Коппе».
Это ненасытный корень и секрет произведения, которое постоянно потрясает нас, удивляет нас тем, что не цепляется за убедительный эффект, тем более затворнический, владея кристаллическими и убедительными формулами относительно знания, которым они покрыты, предпочитая вместо этого достигать нас в ожиданиях, которые мы создаем, тем самым показывая себя гораздо более внимательным, окружающим, отнимая у нас «всякую надежду избежать его», говорит Бланшо. «Движение? Да, имманентность, в которой оно пытается, однако, вернуть бесконечную реальность трансцендентности, которая никогда не отделялась от себя и не делала обоих сообщниками в качестве противника. Именно это бесконечное требование приводит его к низшему (которое также является высшим), в перспективе метаморфозы, в которой пределы его личности и удобства человеческой реальности — и которые теперь ведут его, Метаморфоза: та, что абсолютной банальности, где, на этот раз, принятие предела становится неограниченным, и где движение, представляющее собой крайнюю точку сознания, разума и суверенитета, совпадает с отказом от всякого суверенитета и всякого личного сознания».
В этих фразах дышат воздух преступности, ничто не слишком значимое, потому что в этом эффекте чудовищность нет решающего, это темная привлекательность, это неисчерпаемое принуждение, и, следовательно, он добивается успеха его тенистых максимумов, которые звучат как обратная фразы, излучаемые с таким громким весом культуры, которая ищет нас. Многие из его фраз являются фальсифицированными цитатами от французских моралистов, таких как Vauvenargues, La Bruyère, Pascal и La Rochefoucauld. Они идут туда, чтобы искать вырезку, похитить суверенный акцент, чтобы предавать его, затыкая их в уединенную силу. «Теперь мы видим себя в саркастическом сознании, превосходно активном и практически невозможного, чтобы поймать в пропавшем. Теперь эта вездесущая ловкость, этот вихрь различных светов, этот накопленный шторм значений больше не дает нам изображения духа, а скорее из тяжелого, слепого инстинкта, компактной вещи-уставшие уставные тела, которые касаются веществ, связанных со смертью.» Бланхот.
Таким образом, центральным опытом в этой работе является это обратное лицо, непрекращающиеся декорации, способные к воображению, которое кусает и оставляет признаки непрекращающейся агрессии, что приводит к неутомимым манипуляциям грозных и увлекательных изображений. Поэтому это поэтическая работа, которая приносит крайний режим критических действий, который прогрессирует посредством разложения, возрождения, переживания, предательства и освобождения скрытой гипотезы, альтернативы. Этот дьявольский эффект, который меняет знаки, заменяя первоначальное значение, дает этой работе необычное головокружение, поощряя непрерывное критическое движение, которое показывает нам потенциал восстания и осквернения, который открывает нам игру, чтобы представить все в противоположную формулировку. Таким образом, Lautréamont продолжается как для преувеличения, так и для навязывания пародии, иронии, подчеркивая необходимый парадокс любого эффекта власти. Также то, как он осуждает священность самой идеи авторства, и с самого начала оригинальности чрезвычайно продуктивно, прививая в постели представление о том, что это должно быть заинтересовано в том, что не является нашим, потому что ничего не является действительно. В связи с этим, и унижать совесть, которая проходит девственную власть через литературное болото, поднявшись над головой, бедная лампа, которая предлагает им такие понятия, как оригинальность, такая притча о Бертолт Брехте: «В настоящее время» оплакивал г-н К., «Путуляции те, кто публично хвастается за то, что они могли писать великие книги, и это все еще принято всеми. Сотни тысяч, в которых девять десятых состояли из цитат.
Lautréamont не только отказался от этих самодовольных папье, но и сдался противоположному безумию, наиболее растворяющему и большему повреждению нашим аффективным и моральным участкам, принося порядок страха не только для ультра -романтических элементов, которые служили и осуждали, но расширяя их саркастические применения в структуре Epic и даже Epitetetets и даже эпотетса и даже Epitetetetetets и даже эпотеты и даже в эпотете. Используя преимущество в раскачивании просопопеи, каждое пение открывается с экфортом для читателя, располагая то, что он читает, но вскоре служит этому, чтобы направить его до некоторой степени и вскоре оставить его беспомощным, так как, как отметил аргентинский поэт и эссеист Альдо Пеллегрини, песни предполагают лабиринные формы и диалоги между ничинами и дантами данта и данты и данты дантов и дантов, а также данты и данты, и диалог, а также данты, и диалоги между ничинами и дантами, и диалог. Дантеск и Дантеск, а также Дантеск, а также Дантеск и насмешка Дантески из листовки. И он использует решительный тон и поставляется с гимнами, размышлениями о человеке, соображениях о Боге, точно насколько он заинтересован в нем, чтобы снизить все это, навязывают самые абсурдные сравнения, изображения, которые все сговорились и оскорбляют. Этот клубок, который добавляет элемент ужаса, тогда не является простым эффектом деградации, но может создавать юмор и своего рода уникальную мелодию из -за синкопированной и быстрой последовательности элементов, которые достигают их степени наиболее возвышенного цветущего через эти странные и очаровательные образы, эти необычные образы, которые были находки, имели огромные находки, которые имели огромные находки, которые были у вас огромных, которые были у вас огромных побуждений. У этого были огромные результаты распространения в современной поэзии, и что сюрреалисты привели к истощению аналогиями, которые стремились привести к чрезвычайно разнородным и даже противоположным реалиям. Изображение «растворимой рыбы» Бретона и многих других, которые следовали в качестве первоначального взлома знаменитой «случайной встречи, таблицы рассечений, швейной машины и зонтика», который начал функционировать как «символ союза противодействия, личность противоположностей», как объясняет Пеллегрини. И черный юмор, столь дорогой для сюрреалистов, и это станет револьвером во главе большинства поэтов, поскольку аспирин, выпущенный в смысле пробуждения духа восстания, также достигнув в этой работе очень конкретным определением, оказавшись настолько эффективным в нападении на соглашения всего порядка. Этот проступка, злое настроение превратилось в наивное, не принимая больше всего за свою ценность лица, но всегда представляя элемент издевательства, иронии, которая даже особенно общепринята в отношении всего, что намеревалось быть торжественным эффектом. Это не исключает абсолютной серьезности юмора, которая на самом деле работает, чтобы вызвать человека в центр вопросов, как будто все его касалось. По этой причине, как Винда Пеллегрини, вопреки тому, что обычно говорят, «юмор не веселый, но печаль, и часто является идеальной одеждой более глубокого пессимизма». Более того, это в работе Le Comte de Lautréamont et Dieu , который. Леон Пьер-Кинт определяет юмор как способ подтверждения не столько «абсолютного восстания подросткового возраста и внутреннего восстания взрослой жизни», сколько «превосходное восстание духа», с Бретоном с этим определением, которое позже воспроизведено в предисловии к его влиятельной черно-юмологии.
Если сегодня настроение все чаще кооптируется по сюжетам легкостью, утомительными аргументами в своей защите благодаря важной роли, оно должно было бы привести к некоторому облегчению в унизительных условиях жизни в целом, и в частности, социальные права, эта сатира, которая трансформирует буферизацию наших постоянных рекламных СМИ, проповедуя либеральные ценности, которые должны спасти нас из-за того, что мы должны спасти нас из-за того, что иначе в моральных, которые, как и то же самое, что иначе, и, по-видимому, моральные, что иначе, и, по-видимому, моральные предсылки, что иначе, и, по-видимому, моральные предсылки, что иначе, и, по-видимому, морализм, которые, как и то же самое, что иначе, моральные, что иначе в стиле. Теперь кажется корродированным, и все еще сохраняется на стороне этого конформистского здравого смысла. Напротив, в Латреамонте саркастический смех - это коррозионное действие Духа над маской искусственного, лицемерного и обычного мира, что его настроение ищет все средства, распадающиеся. Это черное, потому что он предполагает мошенничество, которое присутствует в нормах и принципах, которые мы судим, непоколебимы, разоблачая всю систему ложных значений, которые используются для подчинения нас. Мальдор является воплощением этого юмора, которое возникает как фритическое и «достигает залога ирригации» (Калассо), давая доказательства свирепости и жестокости, которые сегодня отсутствуют в этом все более нервном смехе существа, которые чувствуют дух только как борифт в этом совершенно бессильном регионе. Из всех ценностей - говорит Бретон - Юмор раскрывает постоянный рост. Это, несомненно, самая специфическая особенность современной чувствительности. Он питается всеми формами произвольного и абсурда, и выходит из бреда, ускоряя нас в оживленном море, которое должно освободить наши импульсы. Таким образом, невысмиссивные духи - развивать чудовище от внутренней части порядка, чтобы довести вещи до крайности, чтобы создать огромное недомогание, высмеивая все правила. И, как сказал Леон Бони, который был первым читателем Lautréamont, тот, кто сделал открытие этой работы в одиночку и осознал свою огромную разрушительную силу: «Это жидкое мытье. Это глупо, чернокожие, пожирающие». Работа, написанная молодым человеком, который испытал почти полное одиночество, способная бесконечно расширяться. Ибо, если мы почти ничего не знаем о конце, который привел его, однако пробелы-это биографии Латреамонта, «в чтении их», как говорит Джульен Грак, «в этом мертвое существо подтверждает, что в этом мертвом существовании оставались в школьной левой части. («Тяжелая математика» - ученик, который смотрит на тот, кто родился, чтобы угнетать его! Хуже того, из праздников в старшей школе. Таким образом, объясняет, что «рожденное и княжеское отвращение к разумному порядку», которое, по мнению этого эссеиста, является отпечатка вечного анархического детства. Поэтому преступный ребенок, который рождается каждый раз, что реальность не может жить.
Jornal Sol