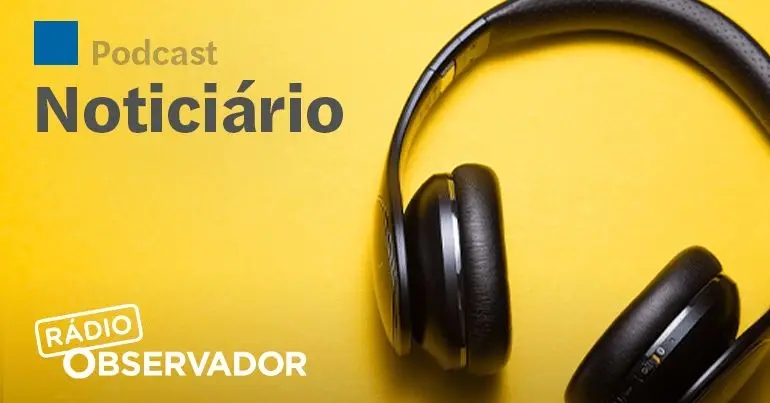Гендерная идентичность, реальность и то, что нам говорят данные

Тема гендерной идентичности стала центральной в общественных дискуссиях, и это справедливо. Но не упускаем ли мы из виду фундаментальные факты о человеческой реальности, движимые нашим энтузиазмом в отношении включения и защиты меньшинств?
В этом тексте я поделюсь краткими размышлениями о сложном балансе между эмпатией и данными, между исключением и правилом.
Хорошо известно, что мы живем во времена, когда гендерная идентичность стала одной из самых обсуждаемых и одновременно самых чувствительных тем в общественной сфере.
Особенно на Западе заметно возросла видимость трансгендерных людей. Это принесло важные достижения в плане признания и защиты их прав. Но это также повлекло за собой и другой феномен: концептуальную путаницу, крайние позиции и, порой, тенденцию игнорировать или релятивизировать объективные данные о человеческой реальности.
И что это за реальность?
Имеющиеся исследования показывают, что лишь от 0,5% до 1% населения идентифицируют себя как трансгендеры, в зависимости от контекста и используемой методологии. Клинические случаи гендерной дисфории, то есть ситуаций, когда это несоответствие вызывает психологический дискомфорт и требует медицинского вмешательства, встречаются ещё реже: по международным данным, их доля составляет от 0,005% до 0,014% населения.
Это означает, что от 99,5% до 99,9% людей идентифицируют себя с тем биологическим полом, с которым они родились.
Это простая статистическая реальность, но иногда её «неловко» признавать. Почему?
Возможно, потому, что мы живём во времена, когда любое упоминание «норм» или «большинства» может быть истолковано как исключение. Но так ли это на самом деле? Не путаем ли мы признание реальности с дискриминацией?
Признание правила не означает отрицание исключения. Совсем наоборот. Мы можем по-настоящему понять и защитить меньшинства, только если знаем, как их разместить в едином целом. В противном случае мы рискуем впасть в новый тип искажения: стремление переформулировать весь язык, биологию и даже социальную организацию, основываясь на статистически незначительном числе.
Я бы сказал, что можно и желательно сделать что-то еще, а именно поддерживать ясный баланс между уважением к опыту каждой личности и сохранением ясности в отношении человеческой природы.
Биология имеет значение. И наука продолжает утверждать, что человеческий вид обладает половым диморфизмом, то есть структурно разделён на два различных биологических пола, хотя и с вариациями и исключениями. Это не мешает человеку жить своей гендерной идентичностью по-разному и, следовательно, заслуживать достоинства, уважения и защиты. Но это уважение не обязательно подразумевает отрицание того, что наблюдаемо, измеримо и является общим для подавляющего большинства населения.
Я говорю, что всему есть место и потребность. И эмпатии, и строгости, инклюзивности и истине, правам и данным.
Таким образом, задача состоит в нахождении сложного, но необходимого баланса: защищать меньшинства, не пытаясь переписать человеческую природу, и не поддаваясь искушению превратить исключение в правило или навязать новую идеологическую ортодоксальность, заменяющую факты представлениями.
А для этого нужны смелость, ум и, прежде всего, приверженность тому, чего нам так не хватает в публичных дебатах: простому здравому смыслу.
observador