Мне поставили диагноз неизлечимого рака. Это футуристическое лечение может меня спасти.

Осенью 2003 года я поскользнулся на льду, выходя из офиса. Бедро болело целый год, но я почти не обращал на это внимания. Боль не проходила, и я обратился к врачу, который назначил мне МРТ. Я пришёл к нему, и он сказал, что у меня опухоль на бедре. Мне было 38 лет, я делал многообещающую карьеру в журналистике, был женат на любимой женщине и впервые стал отцом семимесячной дочери.
Когда мне поставили диагноз – редкая и неизлечимая форма рака крови, называемая множественной миеломой, – мне сказали, что жить мне осталось полтора года. Это было более двадцати одного года назад.
За эти двадцать один год я перенёс множество видов лечения, чтобы бороться с болезнью. Среди них четыре курса лучевой терапии (бедра, шеи, рёбер и носа); шестимесячный курс еженедельной внутривенной иммунотерапии (за которым последовали семь лет поддерживающей терапии в таблетках); ещё один двухгодичный курс иммунотерапии с использованием капсул нового поколения тех же препаратов, которые я принимал ранее; третий курс иммунотерапии с использованием двух новых иммунотерапевтических препаратов, вводимых еженедельно внутривенно в течение ещё двух лет; и шесть лет (и это продолжается) ежемесячных внутривенных вливаний препарата для укрепления моей иммунной системы, которая была ослаблена как моей болезнью, так и лечением, применяемым для борьбы с ней. Но самое замечательное лечение, которое я пережил на сегодняшний день, — это передовая процедура, одобренная FDA для применения в случаях, подобных моему, только в 2022 году, называемая CAR-T-терапией. Вот история этого лечения.
На этот раз я не поскользнулся на льду. Я наклонился, чтобы загрузить посудомоечную машину, и почувствовал острую боль в спине. Это был февраль 2023 года. Мой онколог, доктор Сундар Джаганнатх из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, назначил мне ряд анализов крови и УЗИ. Они показали, что я снова вышел из ремиссии, уже в седьмой раз. У меня были опухоли на бедре, в рёбрах, а также в грудном и поясничном отделах позвоночника.
В один непривычно прекрасный мартовский день мы с женой Диди встретились с доктором Джаганнатхом. Он объяснил, что наилучшим вариантом лечения для меня будет совершенно новый, передовой, почти ошеломляюще футуристический тип иммунотерапии, называемый CAR-T-терапией. Это будет самое мощное и опасное лечение, которое я когда-либо проходил.
Терапия CAR-T включает в себя забор Т-клеток из кровотока и их отправку в лабораторию, где к поверхности Т-клеток добавляется белок, называемый химерным антигенным рецептором (CAR), отсюда и аббревиатура «CAR-T». CAR-белок помогает Т-клеткам распознавать антигены на поверхности конкретных раковых клеток, в моём случае миеломных, что позволяет Т-клеткам обнаруживать и уничтожать злокачественные клетки. Затем Т-клетки, заряженные CAR-рецептором, вводятся обратно в организм внутривенно для выполнения своей функции.

Когда я начал работать над программой CAR-T, у меня и моей жены Диди возникли десятки вопросов.
Он объяснил, что CAR-T-терапия — это так называемая одноразовая терапия, которая практически не требует постоянного поддерживающего лечения. Если бы она сработала, я мог бы вернуться к относительно нормальной жизни, по крайней мере на какое-то время, практически без поддерживающей терапии.
Разумеется, не обошлось без оговорок. CAR-T-терапия ни в коем случае не гарантирует стопроцентной эффективности, требует месяцев подготовки, которая порой сложна и неприятна, и имеет ряд потенциально изнуряющих, а иногда и смертельных, побочных эффектов.
Научное определение «химеры» — ключевого слова в термине «химерный антигенный рецептор» — это часть тела, состоящая из тканей, содержащих различный генетический материал, но у этого термина есть и два других значения. Одно из них — воображаемый монстр, состоящий из несочетаемых частей. Другое — иллюзия, точнее, несбыточная мечта. Оба варианта кажутся подходящими.
Поскольку CAR-T-терапия — это сложная и высокоспециализированная терапия, доктор Джаганнатх направил меня к специалисту по CAR-T-терапии для управления моим лечением. Несколько недель спустя мы с Диди впервые встретились с доктором Шамбави Ричардом.
Доктор Ричард — американка индийского происхождения с длинными черными волосами, которая предпочитает стильные очки. Дружелюбная и непринужденная манера общения сочетается с глубокими профессиональными знаниями.
Подготовка к CAR-T-терапии, объяснила она, действительно была сложной. В моём случае она включала бы десятки анализов крови; биопсию кости и костного мозга; процедуру забора Т-клеток; возможно, дополнительную лучевую терапию, если опухоли в моих костях станут проблематичными до того, как я получу CAR-T-терапию (производство «турбо-заряженных» клеток занимает примерно месяц после забора Т-клеток); четырёхдневное пребывание в больнице для проведения курса химиотерапии, известного как DCEP, который предназначен для уменьшения количества миеломных клеток в организме и повышения эффективности CAR-T-терапии; три дня амбулаторного лечения, называемого лимфодеплецией (ещё один вид химиотерапии), при котором уничтожаются существующие Т-клетки, чтобы биоинженерные Т-клетки могли эффективнее атаковать миеломные клетки; и установку катетера в грудную клетку для введения CAR-T-клеток, введения соответствующих лекарств и забора крови для мониторинга показателей крови в течение двухнедельного пребывания в больнице, необходимого для инфузии CAR-T-терапии.
По её словам, два наиболее серьёзных побочных эффекта CAR-T-терапии — это синдром высвобождения цитокинов и нейротоксичность. Синдром высвобождения цитокинов, или СВЦ, возникает, когда иммунная система организма слишком агрессивно реагирует на инфекцию. В случае CAR-T-терапии организм, по-видимому, ошибочно принимает биоинженерные клетки за инфекцию, провоцируя нежелательную реакцию. Симптомы СВЦ включают лихорадку и озноб («трясёт и печёт», как называют это некоторые врачи), усталость, диарею, тошноту и рвоту, головные боли, кашель и низкое кровяное давление. При отсутствии своевременного лечения это состояние может привести к летальному исходу.
Нейротоксичность — это широкий термин, обозначающий набор неврологических симптомов, которые могут включать головные боли, спутанность сознания, делирий, невнятную или бессвязную речь, судороги и отёк мозга. Нейротоксичность также может быть смертельно опасной, если её не лечить немедленно.
Терапия CAR-T также приводит к серьёзному иммунодефициту у пациентов и делает их уязвимыми для инфекций в течение нескольких месяцев, а иногда и лет после этого. Она настолько полностью уничтожает их иммунную систему, что в конечном итоге им приходится делать все свои детские прививки (свинку, корь, краснуху и т. д.), не говоря уже о прививках от COVID и гриппа. Пока они не получат эти прививки, которые можно сделать не раньше, чем через шесть месяцев после CAR-T, они восприимчивы ко всем этим болезням и не только. Во время моего пребывания в больнице мне будет разрешено встречаться лишь ограниченному числу посетителей, и все они должны будут носить маски. После возвращения домой мне придётся жить более осторожно, чем раньше, как мы все делали в первые дни COVID.

Мне поставили диагноз миелома в 38 лет, когда я только стал отцом.
У нас с Диди возникло множество вопросов. Подождите, а как же работает CAR-T? Вызовет ли забор Т-клеток такое же покалывание, как забор моих стволовых клеток? Смогу ли я поехать на свадьбу племянницы на Кейп-Код в августе?
Доктор Ричард не только врач мирового класса, но и первоклассный слушатель. Она терпеливо ответила на все наши вопросы, сообщила, что её клиника запишет нас на необходимые приёмы, и отправила нас домой.
Мы с Диди взяли такси домой. Проезжая по Пятой авеню, мы испытывали странный оптимизм. Действие лучше бездействия. А я собирался стать бионическим.
Я сдала анализы крови. Сделала биопсию. Сделала забор Т-клеток. Лучевая терапия мне в итоге не понадобилась.
Готовясь к потере волос во время двух курсов химиотерапии, я подстригся под ёжик. Мне казалось, что потеря коротких прядей будет менее травматичной, чем длинных. Когда мой парикмахер заметил, что это для меня серьёзный шаг, я солгал, сказав, что хочу сохранить прохладу летом. Затем, в четверг, 11 мая, я зарегистрировался в клинике Mount Sinai, чтобы начать четырёхдневный курс лечения DCEP.
«DCEP» — это вольная аббревиатура четырёх препаратов, входящих в схему лечения: «дексаметазон, циклофосфамид, этопозид и цисплатин». Они вводятся внутривенно. К четырём часам дня я уже был в своей палате на одиннадцатом этаже больницы и подключён к капельнице.
Поскольку DCEP необходимо вводить непрерывно, я был подключен к своему капельнице круглосуточно. Мне приходилось подключаться ко многим капельницам, и должен сказать, что электронные помпы, используемые для их введения, дают сбои. Самое раздражающее, что сигнализация, которой оснащены устройства, должна срабатывать только при возникновении проблем с подачей лекарства, часто срабатывает без причины. Каждый раз, когда это происходит, медсестра должна приходить, проверять, всё ли в порядке, и перезагружать помпу. Когда ты подключена к помпе круглосуточно, это может сводить с ума. Это определённо не способствует сну.
После четырёх дней в больнице я с нетерпением ждал возвращения домой. Физически я чувствовал себя хорошо. К счастью, я перенёс DCEP практически без побочных эффектов. Но я чувствовал себя измотанным из-за недостатка сна и эмоционально выжатым.
На четвертый день, сразу после ужина, меня выписали.
На следующее утро, после того как мой сын Оскар ушёл в школу, я села на диван в гостиной. Диди сидела за обеденным столом и работала за ноутбуком.
«Знаешь, что приятно?» — сказал я.
С того момента, как я уехал в больницу, и до этого момента я не чувствовал особого страха или расстройства. В основном, все девяносто шесть часов, что я провёл в больнице «Маунт Синай», я просто опустил голову и делал то, что должен был делать.
Я начал отвечать на свой собственный вопрос. Я собирался сказать: «Спать в собственной постели». Но прежде чем я успел закончить предложение, все эмоции, которые я, по-видимому, подавлял последние четыре дня в больнице, а может быть, и последние девятнадцать лет, вырвались на поверхность.

Несмотря на успешное лечение, я по-прежнему боюсь оставить своего сына Оскара и дочь Эй Джей без отца.
Я довольно стойкий человек. Меня нелегко сломить своими проблемами. Я даже не склонен особо о них говорить.
Что ж, рак делает из стоиков лжецов. Так же, как он атакует ваше тело, он атакует ваши эмоциональные защиты и не остановится, пока не лишит вас их. Хотите бороться девятнадцать лет? Ничего страшного. Рак терпелив. Рак подождет. Он смеётся над вашей стойкостью. Он издевается над вашей скованностью. Его забавляет ваша смелость. В конце концов, он вас сломает. Вы можете войти в рак стоиком, но не уйдёте им.
Я расплакалась. Прямо-таки рыдала. Глубоким, первобытным, отвратительным воплем. Впервые с тех пор, как мне поставили диагноз, я плакала так сильно. Вопреки моим стоическим инстинктам, плач не делал меня слабой или стыдной. Он приносил мне облегчение. Словно с моих плеч свалилось бремя девятнадцати лет.
«Я так по вам скучала, ребята», — выдавила я из себя Диди, задыхаясь. «Я так рада вернуться домой».
Меня спрашивали, боюсь ли я смерти. Ответ — нет, не очень. Долго и упорно размышляя на эту тему, я с этим смирился. На мой взгляд, смерть — это смерть. Ни рая, ни ада. Просто корм для червей. Ничто. Почему я должен бояться ничего?
Я боюсь страданий. Я видел страдания своими глазами: в кабинетах онкологов, в лечебных учреждениях и в онкологических отделениях. Это определённо страшно.
Во время сеансов лучевой терапии я видел пациентов с настолько сильными ожогами кожи, что они выглядели как жертвы поджога. Во время сеансов я видел, как мужчина обмочил штаны в кресле, пока спал; женщина упала в обморок по пути в ванную, раскроила голову и залила кровью весь пол; и туалеты были покрыты брызгами от диареи. Во время моих госпитализаций я видел пациентов, которые были лысыми, истощенными и такими же бледными, как белые больничные одеяла, в которые их заворачивали, чтобы согреться. Я слышал стоны, крики и звуки, которые, честно говоря, не могу описать. Онкологические отделения называют домами ужаса. Хотел бы я оспорить это определение.
Я всё ещё боюсь оставить Оскара и мою дочь Эй Джей без отца. Не потому, что я не верю, что с ними всё будет хорошо. Я твёрдо верю в них. Но если и есть что-то изначально заложено в родителях человечества, так это стремление заботиться о своём потомстве. Не суметь этого сделать, даже если эта неспособность мне неподвластна, для меня было бы непростительной ошибкой.
Я также хотел бы увидеть, как Эй Джей и Оскар вырастут, начнут свою карьеру, поженятся и заведут детей, если захотят. Я хотел бы провести пенсию с Диди, больше писать, чаще рыбачить, чаще играть в покер и чаще путешествовать с семьёй и друзьями.
Я не боюсь быть мёртвым. Я боюсь не быть живым.
DCEP должен был быть львом. По крайней мере, внешне он был ягнёнком. Лимфодеплеция должна была быть ягнёнком. Оказалось, что он укусил.
Мои процедуры были запланированы на четверг, пятницу и субботу. Воскресенье было выходным. В понедельник я должен был лечь в больницу на CAR-T-терапию.
Как и DCEP, лимфодеплеция проводится внутривенно, но амбулаторно. После первой инъекции я чувствовал себя хорошо. После второй – ужасно. После третьей я чувствовал себя так же плохо, как после любого лечения рака. Меня тошнило, кружилась голова, и я был настолько слаб, что едва мог выпить стакан воды или встать с кровати. Мне пришлось ползать на четвереньках, чтобы сходить в туалет.
К лучшему или к худшему, люди склонны считать густые волосы признаком хорошего здоровья, а их выпадение – явным признаком рака. У меня всегда была хорошая шевелюра. Став взрослой, я носила длинные волосы на макушке и короткие по бокам, оставляя одну прядь на лбу. Диди называет это моими суперменскими локонами.
Хотя мои волосы начали немного выпадать во время DCEP, теперь они выпали полностью. Когда я принимал душ, в пене шампуня у меня в руках было множество мелких чёрных и седых волосков.
Это расстроило меня сильнее, чем я ожидал. Моя попытка предотвратить это чувство, подстригшись под ёжик, не сработала — к таким вещам невозможно подготовиться. Спустя почти двадцать лет я наконец-то столкнулся, пожалуй, с самым знакомым побочным эффектом рака. Выпадение волос было несомненным и неоспоримым признаком моей болезни, и это было больно. Кудряшки Супермена исчезли.
После последней процедуры лимфодеплеции я поехал домой из больницы на такси. Это была суббота, 24 июня 2023 года, накануне нью-йоркского гей-парада. Поскольку несколько крупных улиц уже были перекрыты, движение было затруднено. Поездка, которая обычно занимает сорок пять минут, уже растянулась на час с лишним, а мне предстояло проехать ещё больше двадцати кварталов.
Когда мы медленно двигались по Парк-авеню Саут, к моему такси подъехал пикап. Это был красный Ford F-150 с номерами штата Нью-Джерси. Водитель и пассажир на переднем сиденье были молодыми людьми чуть старше двадцати, в майках и бейсболках. Из динамиков гремела песня Bon Jovi. Будь они персонажами фильма, вы бы сочли их слишком навязчивыми.

Готовясь к выпадению волос во время двух курсов химиотерапии, я подстригся «ёжиком».
Как это часто бывает, когда иммунная система человека подвергается уничтожению в рамках подготовки к футуристическому лечению рака, я сидел в маске на заднем сиденье такси с опущенным стеклом. Водитель пикапа, который теперь находился всего в нескольких футах от меня на полосе справа, тоже открыл окно. Ещё до того, как он заговорил, я уже знал, что он скажет.
Точная цитата была: «Чувак, сними маску». Его напарник рассмеялся.
В моей семье мы любим рассказывать историю про моего отца. Когда мне было лет пять, мы все шестеро: папа, мама, трое моих братьев и сестёр и я — катались на лыжах в северной части штата Нью-Йорк. В тот день было особенно многолюдно, и к одному из подъёмников выстроилась длинная очередь.
Когда группа подростков попыталась проскочить вперед, мой отец, который был известен своей доброй душой, но также верил в правила, остановил их.
«Извините, ребята», — сказал он. «Мы все здесь долго ждём. Вам придётся встать в конец очереди».
Дети не обращали на него внимания.
«Ребята, идите назад».
Ничего.
"Ребята …"
А потом: «Иди на хер, старик».
Вот и всё. Что-то внутри моего обычно кроткого отца щёлкнуло. Он скинул лыжные ботинки, подошёл к детям и схватил вожака стаи за отвороты пальто.
«Идите назад», — сказал он. «Сейчас же!»
И они пошли назад.
Вернувшись на Парк-авеню Саут, я дал волю своему внутреннему Джину Глюку.
Я вышел из кабины (движение все равно было остановлено) и подошел к водителю пикапа.
Мой уличный монолог звучал примерно так: «Я раковый больной, придурок. Я возвращаюсь домой после химиотерапии. В понедельник меня кладут в больницу на две недели лечения, которое может меня убить. Я ношу маску, потому что мой иммунитет не работает. Иди нафиг».
Что касается мощности моего выступления, то его не испортило то, что благодаря DCEP и лимфодеплеции я не только потерял большую часть волос, но и стал худым и приобрел пепельный оттенок.
Честно говоря, как только я вышел из кабины, водитель, похоже, понял, что происходит, и как только я подтвердил его подозрения, он, казалось, искренне раскаялся.
«Извини, чувак», — сказал он. «Я виноват».
Я вернулся в такси, а он и его приятель повернули направо на следующем перекрестке, подозреваю, чтобы больше не ехать рядом со мной.
Обычно я не верю в разыгрывание карты рака. В большинстве случаев это слишком мощный инструмент для решения проблемы, не говоря уже о манипулятивном эффекте. Но в тот день я сделала исключение.
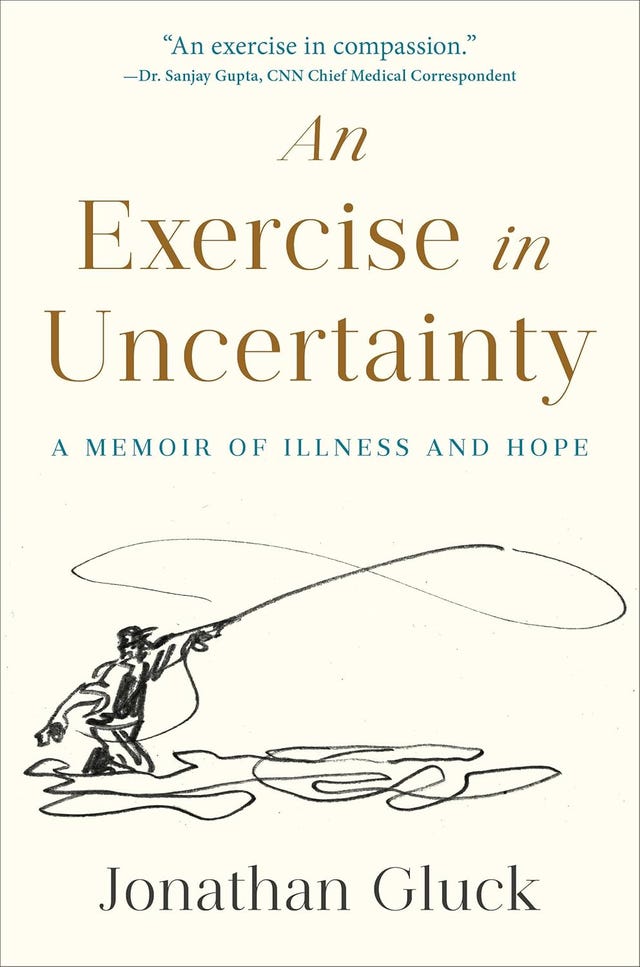
В понедельник, 26 июня, я снова обратилась в клинику Mount Sinai, на этот раз для прохождения CAR-T-терапии. Врачи и медсёстры объяснили нам с Диди, что сама процедура безболезненна и займёт всего полчаса.
После этого они будут тщательно следить за мной — сначала каждые пятнадцать минут, затем каждые полчаса, затем каждый час и после этого несколько раз в день — на предмет симптомов синдрома активной реанимации и нейротоксичности в течение всего моего двухнедельного пребывания в больнице.
Мониторинг состояния пациента с синдромом некроза опухоли включал бы анализы крови, измерение температуры и артериального давления. Скрининг на нейротоксичность включал бы в себя вопросы о том, помню ли я своё имя, какой сегодня день, в каком городе нахожусь и так далее, а также проверку почерка для отслеживания моих двигательных навыков.
Как нам уже сказали, ко мне будет допущено лишь ограниченное число посетителей, и все обязаны носить маску. Я пришёл с двумя романами, тремя сборниками кроссвордов и подписками на Netflix, Hulu и Peacock. Мои сёстры и брат прислали мне фотографию нас четверых с семейной свадьбы, чтобы я хранил её у моей кровати.
Я планировала поработать, пока буду в больнице. Доктор Ричард поддержала меня. Она сказала, что это поможет мне отвлечься. Чтобы встречи в Zoom не были такими пугающими, я либо выключила бы камеру, либо выбрала бы фон, отличный от больничной палаты.
Когда пришло время, одна из медсестёр прикатила штатив для внутривенного вливания, на котором висела сумка с моими CAR-T-клетками. Жидкость в сумке была бесцветной и ничем не примечательной, как обычная вода. Помню, я ещё размышлял, как нечто столь необычное может выглядеть таким обыденным.
Затем медсестра взяла пластиковую трубку, идущую от пакета, и подсоединила её к катетеру, установленному мне в грудную клетку ранее днём. Я видела, как первые капли капельницы свисали с клапана на дне пакета, а затем отрывались и по трубке попадали в мои вены.
Диди сидела рядом с моей кроватью, в кресле для посетителей.
«Ладно, клетки», — сказала она. «Работают».
Первые несколько дней пребывания в больнице я чувствовал себя хорошо. Не то чтобы я был в восторге. Измерения температуры, давления, заборы крови и тесты на когнитивные функции были непрерывными.
«У вас что-нибудь болит?»
"Нет."
«Сейчас я измерю вам давление».
"Хорошо."
«А теперь ваша температура».
"Конечно."
И так далее.
Меня сотни раз кололи иглами. Я к этому привык. Но просыпаться каждую ночь в полночь и в три часа ночи, чтобы сделать укол, было для меня в новинку.
Принятие душа было настоящей ловушкой. Из-за катетера мне не разрешали принимать обычный душ, чтобы не подхватить инфекцию, но из-за ослабленного иммунитета мне нужно было поддерживать чистоту кожи, чтобы избежать инфекций. Выписанный раствор представлял собой специальные дезинфицирующие салфетки, которые можно безопасно использовать ежедневно. Могу сказать, что они не слишком хорошо заменяют душ.
Для когнитивных тестов один из врачей или медсестёр просил меня написать «моё предложение» — копию предложения, которое они попросили меня написать в первый день в качестве исходного значения, чтобы отслеживать мою мелкую моторику. Моё предложение было таким: «Сегодня я позавтракал, посмотрел телевизор, почитал книгу и прошёлся по коридору». Шекспир!
Затем врач или медсестра задавали мне ряд вопросов.
"Как тебя зовут?"
«Джонатан Глюк».
"Где ты?"
«Больница Маунт Синай».
«В каком городе?»
"Нью-Йорк."
"Сколько тебе лет?"
"Пятьдесят восемь."
«Что это?» [Указывая на телевизор.]
«Телевизор».
И т. д.
Наконец, они просили меня поднять правую руку, прикоснуться пальцем к носу или сделать что-то в этом роде.
На третий или четвертый день, когда одна из медсестер попросила меня поднять руку, я не сразу это сделал.
Она помолчала.
«Ты в порядке, Джонатан?» — спросила она.
«Ты не сказал: «Саймон говорит», — сказал я.
Для протокола: она рассмеялась.
Еще одной проблемой была скука.
Чтобы скоротать время, я запоем посмотрел второй сезон « Медведя» (превосходно). Прочитал две книги, написанные бывшими коллегами ( «Плохие летние люди » Эммы Розенблюм и «Испытание Эдема » Адама Стернберга). Прошёл три сборника кроссвордов из New York Times (я никогда не был так хорош в кроссвордах). И посмотрел буквально каждую минуту «Тур де Франс» – более восьмидесяти часов телевизионных велогонок. (Посмотрите на YouTube захватывающую победу Йонаса Вингегаарда в гонке на время на 16-м этапе, где он нанес решающий удар давнему сопернику Тадею Погачару.) Поскольку просмотр спортивных состязаний по телевизору всегда был для меня своего рода прозаком, я включил в список несколько десятков матчей Уимблдона (рад за Карлоса Алькараса, грущу за Онса Жабера), женский Открытый чемпионат США по гольфу (поздравляю впервые победившую на турнире Большого шлема Эллисен Корпус) и ежевечернюю порцию игр «Янкиз» и «Метс» (все одинаково скучные и приятно скучные). Что касается вопроса, смотрел ли я турнир по корнхолу на ESPN, то я склоняюсь к пятому варианту. (Вперёд, Джейми Грэм!)
Если вы чувствуете, что речь идёт об эскапизме, то вы не ошибаетесь. Во время лечения в больнице по программе DCEP я прочитал «Выносливость» – рассказ Альфреда Лансинга о злополучной экспедиции Шеклтона. Я подумал, что эта эпическая история выживания может меня вдохновить (по крайней мере, мне не пришлось сидеть на антарктической льдине, питаясь тюленьим жиром), и в какой-то степени так и было. Но, возможно, это было слишком напряжённо. Моя собственная сага, решил я, и так достаточно мучительна.
Я избавлю вас от жалоб на больничную еду. На самом деле, не буду. Но ограничусь кофе. Кофе был ужасен. Ужасный. Возможно, злой. Честно говоря, я не решаюсь называть его кофе. Это был растворимый Nescafé, тот самый, который упаковывают в такие тонкие маленькие пакетики, чтобы они выглядели по-европейски, вылитый в пенопластовый стаканчик с тепловатой водой. Знаете маленькие лужицы, которые образуются на обочине дороги после дождя, те самые, с радужными масляными пятнами на поверхности? У кофе был не такой вкус; он был хуже. Вы когда-нибудь забывали менять фильтр для воды под кухонной раковиной в течение трех лет, пока он не пропитался грязью и бактериями настолько, что его можно было бы использовать в программе Superfund? Представьте, что вы выжимаете этот фильтр и пьете остатки. А потом считайте, что вкус кофе был в десять раз хуже.
Скажем так. На четвёртый день я начал тайком спускаться в «Старбакс» в вестибюле больницы, несмотря на риск заражения, чтобы получить свою дозу кофеина. Другими словами, больничный кофе был настолько плох, что я рисковал жизнью, чтобы не пить его.
С другой стороны, поскольку у меня был серьёзно ослаблен иммунитет, мне выделили одноместный номер. Это означало, что у меня было много свободного времени. Диди призналась мне, что иногда ей нравится ездить в командировки, потому что пребывание в гостиничном номере в одиночестве даёт ей редкую возможность отвлечься от моих забот, детей, кошек и всего остального. Это драгоценное время в одиночестве. Возможно, эта мысль приходила мне в голову, а может, и нет.
Однажды утром, возвращаясь в свой номер после того, как я выпил кофе в вестибюле, я наткнулся на желтую записку, приклеенную рядом с кнопками «Вверх» и «Вниз» в лифте.
Там было написано: «Каждый день на земле — хороший день! Целую и обнимаю».
Человеку, написавшему эту записку, я говорю: «Аминь».
День выписки был во вторник, 11 июля. Меня в последний раз осмотрели («Больно ли у вас?»), сняли катетер, и я смогла идти.
Диди принесла сумку, полную косметики, лака для ногтей и кремов для лица, в знак благодарности медперсоналу. Мы оставили её у старшей медсестры и прямиком направились к выходу, как говорят в больничных телепередачах .
По пути к лифтам я столкнулась с женщиной, которую назову Барбарой. Барбара тоже была пациенткой CAR-T и одной из тех, кто ходил по коридору. Забудьте об этом. Она была той самой. Она была там каждый день, шагая туда-сюда, по часу или дольше, в темпе как минимум в три раза быстрее любого из нас. Ей было лет шестьдесят пять, и от неё исходила сильная, спокойная аура. Она словно говорила: «Я знаю твою силу, рак. Но, прости, ты меня не победишь».
Было очевидно, что я ухожу; чемодан был со мной.
До этого мы с Барбарой несколько раз болтали и немного болтали. Но в тот момент нам не нужно было говорить. Мы прекрасно понимали друг друга, почти телепатически. Каждый из нас говорил другому: «Прости. Понимаю. Удачи».
Адаптировано из книги «Упражнение в неопределенности» , издательство Harmony Books, 2025 г.
esquire




