Беспокойство хорошей жизни между признанием, любовью и справедливостью

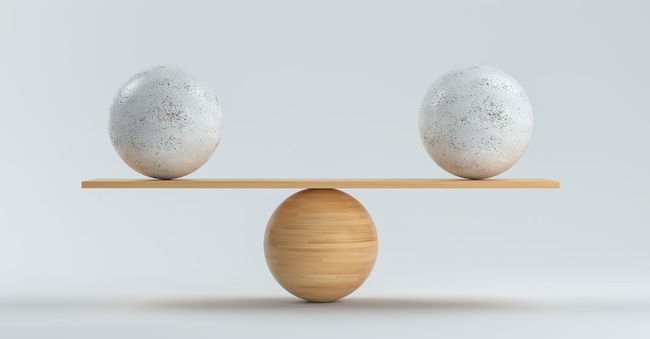
Возможность жить хорошей жизнью вместе с другими и для других в справедливых институтах. Именно в этом идеале мы находим глубокую природу этического видения Поля Рикёра. Фраза, ясная и яркая, как стих. Фраза, которая показывает горизонт его практической философии в ее основных элементах: хорошая жизнь, отношения с другими, любовь, которая становится справедливостью в учреждениях. Именно здесь, в напряжении между желанием счастья и потребностью в справедливости, на карту поставлена возможность воплощенной, гостеприимной этики, способной ответить на раны мира, не теряя надежды.
«Я» в своей субъективности никогда не бывает изолированным. Это отправная точка его этических и политических размышлений. «Я» создается и формируется в отношениях, в повествовании, в обещаниях, которые мы даем другому. Следовательно, субъективность не может существовать замкнутой на себе, но которая по своей природе обязательно открывается другому. Однако это открытие возможно только исходя из «я», которое уже сформировалось в своем собственном самоосознании, в сформированной личной идентичности, «самости». Мы становимся теми, кто мы есть, говоря себе это. Развиваем ткань нашего существования, удерживая воедино прерывность и связность, память и историю. Это процесс, который прежде всего подвергает нас столкновению с «внутренней инаковостью», с бессознательным и с заблуждением. Это повествование придает смысл тому, «кто мы есть», выходящий за рамки простого знания того, «что мы есть». Но эти знания не являются самоцелью. Конституция самости рисковала бы остаться незавершенной, если бы она не была открыта для встречи с другим. Эпистемическое измерение самопознания становится этическим измерением в признании другого. Признание другого как чего-то иного, чем ты сам, подразумевает способность сопереживать, разделять страдания и радость других, проявляя «заботу». Принимая во внимание «Fürsorge» Хайдеггера, в силу которого присутствие мыслит в отношении других и заботится о других существах, «забота» для Рикёра является выражением взаимности между любовью к себе и любовью к другому. Речь идет не о чистом одностороннем альтруизме, а об отношениях, в которых другой признается личностью, достойной уважения, способной говорить и, как и мы, уязвимой. Продолжая урок Левинаса и его идею ответственности за лицо другого, который задает нам вопросы, Рикёр заботливо продает ответ на человеческие страдания и хрупкость. В этом смысле забота является посредником между собой и другими, обеспечивая возможность для реляционной, эгоцентрической этики. Таким образом, она трансформируется в реляционную форму самооценки. Это форма признания, основанная на взаимности, но не на эквивалентности: другой никогда не сводится ко мне. Отношения всегда асимметричны. Анализируя «золотое правило» — «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой», — которое лежит в основе всех великих моральных кодексов, Рикёр подчеркивает его асимметричную природу. «Самое замечательное в формулировке этого правила, — пишет он в Sé come un altro (Jaca Book, 1993), — заключается в том, что требуемая взаимность выделяется на фоне предпосылки изначальной асимметрии между главными действующими лицами действия — асимметрии, которая ставит одного в положение агента, а другого — в положение пациента. Это отсутствие симметрии имеет свою грамматическую проекцию в оппозиции между активной формой „делать“ и пассивной формой „пусть это будет сделано тебе“, и, следовательно, подвергания». Переход от беспокойства к норме тесно связан с этой базовой асимметрией, в той мере, в какой к ней прививаются все злые последствия взаимодействия, от влияния до убийства». Может ли «золотое правило» тогда установить не только беспокойства, но и справедливость, спрашивает Рикёр? Мы должны сначала спросить себя, кто этот «другой», который нас зовет? Тот, с кем мы должны делать то, что хотели бы, чтобы делали с нами. Это наш ближний? Друг? Тот конкретный человек, один он или одна она? Конечно! Так же, как и самаритянин в евангельской притче, ограбленный и избитый разбойниками человек — это прежде всего «тот» конкретный человек, раненый и страдающий. Но он не только это. Другой — это «другой от нас», самый далекий, самый другой, тот, с кем нет родства. Вспомним, что «ближний» в притче, на самом деле, не левит и не священник — этнически и культурно близкий жертве разбойников, — а самаритянин, самый далекий, подозреваемый, почти враг. Вот почему для Рикуэра самаритянин олицетворяет собой образ «подлинной заботы», которая заставляет нас отвечать другому как другому, без расчета, из чистого сострадания. Поэтому, если верно, что любовь в ее чистейшей форме агапе подталкивает нас к исключительности, исключительности, непреодолимой единичности другого, то столь же верно и то, что справедливость должна обобщать, обезличивать, устанавливать правила, нормы, справедливое распределение. И именно здесь – как мы увидели несколько недель назад – возникает напряжение, беспокойное сердце философии Рикёра. Сердце, которое не чувствует себя вынужденным выбирать, как будто стоит перед выбором «или-или», но предпочитает обитать в пространстве между диалектическими полюсами. Любовь сама по себе рискует стать слепой, частичной, агрессивной; Правосудие само по себе рискует стать холодным, анонимным, безжалостным. Их отношения хрупки, но плодотворны: именно в этом промежуточном пространстве можно попытаться выстроить общую этику. Таким образом, мы приходим к третьей фазе признания, после признания себя и другого, возникает форма признания, которая имеет институциональный характер и связана с правом, справедливостью и достоинством. Это чисто политический и юридический уровень: признание, осуществляемое институтами в отношении лиц, являющихся объектом правосудия, не только как бенефициаров справедливого обращения, но, прежде всего, как субъектов общественного признания их достоинства как личностей и членов группы, которая идентифицирует их как носителей прав. В этом смысле «политику признания» нельзя понимать только как управление властью, пусть и легитимное. Мы должны требовать от политики создания символических и правовых пространств, в которых субъекты смогут увидеть признание своего достоинства, своего голоса, своей памяти. Подумайте о проблемах меньшинств, угнетенных, колонизированных. Институты — это не просто дискредитировавшие себя бюрократические аппараты, это место, где этика становится стабильной, видимой и действенной. Они не просто «место правления», — пишет Рикёр, — но и место «сдержанного обещания». Они хранят память о наших социальных обещаниях, о возможности опосредованного доверия, о видимой форме заботы.
Давайте подумаем о государственных школах. Это не просто образовательное учреждение: это обещание каждому ребенку, даже самому хрупкому и далекому, что знания — это общее благо, и что никто не должен быть исключен из него. Или представьте себе больницу: место, где уязвимость тела встречается с заботой в форме технических знаний (уход) и физического и эмоционального контакта (забота). Там каждый протокол, каждая медицинская практика, каждое этическое решение также находятся в напряжении между универсальностью права на здоровье и уникальностью лица пациента. Давайте представим себе судью. Перед ним — молодой подсудимый, признавшийся в совершении преступления. Закон ясен: наказание должно быть применено. Но судья, вынося приговор, знает, что перед ним не одно дело. У него есть жизнь. Рикёр не просит судью игнорировать закон. Он просит, чтобы в своем жесте справедливость не забывала о заботе.
В этом смысле справедливость — это не взгляд с завязанными глазами и не стерильное равновесие весов. Скорее, это способность воспринимать историю другого человека в рамках общих прав и обязанностей. Структура, которую должны постоянно подвергать сомнению, трансформировать, делать более справедливой те, кто в ней участвует.
Основополагающую часть этой мозаики институционального признания составляет связь с прошлым, осознание истории. Только посредством работы памяти и перспективной справедливости возможно фактически сформировать коллективную идентичность, которая не отрицает перенесенную или причиненную боль. Повторяющиеся дебаты по поводу праздника 25 апреля показывают, что и сегодня в нашей стране эта память не утихла и процесс взаимного признания далек от завершения. Но, к счастью, истории примирения не все столь неоднозначны и незавершенны. Одним из наиболее показательных примеров является то, что произошло в Южной Африке после окончания апартеида. Перед страной встал острый вопрос: как восстановить страну, раздираемую десятилетиями насилия и сегрегации? Наказать или простить? Забыть или помнить? Под руководством таких деятелей, как Десмонд Туту и Нельсон Мандела, институты выбрали другой путь, вдохновленный рикеровским видением ante litteram: путь истины, которая является основой справедливости, памяти как места взаимного признания и прощения как преодоления логики мести. Рикёр предлагает нам категории для понимания этого эпохального процесса, поскольку в его перспективе прощение является скрытым лицом справедливости и ее высшим проявлением. В этом народном выборе не было отказа от справедливости, а была попытка переписать ее в свете признания врага частью той же трагической истории.
И наоборот, давайте подумаем, что происходит, когда эта диалектика нарушается. Когда институты забывают о своем этическом призвании и превращаются в слепые механизмы власти. Когда правосудие теряет человеческий облик и становится бездушной процедурой. В этих случаях обещание нарушается, доверие исчезает, другой человек снова становится невидимым. Именно это мы видим в судебных системах, неспособных слушать, в границах, которые скорее отвергают, чем приветствуют, в экономиках, которые скорее исключают, чем распределяют, в призыве к высшему праву, который неизбежно заканчивается суммой iniuria.
Для Рикёра признание является краеугольным камнем любой этики. Это не просто вопрос видимости или прав, но онтологический акт: признание в другом дееспособного, ответственного, повествовательного существа. И это признание коренится в обещании, в данном слове, в способности сдержать обязательство. Но чтобы обещание длилось, нужны правила, коллективная память и инструменты, которые его поддерживают. В этом смысле институты являются публичным эхом данного слова.
Хорошая жизнь, с другими и для других, в справедливых институтах. Это не окончательная формула, а постоянное приглашение. Путь, по которому нужно идти, между хрупкостью обещаний и суровой реальностью. Это сама жизнь, запечатленная в ее стремлении к смыслу и в ее уязвимости. Философия Поля Рикёра предлагает нам не закрытую систему, а открытую, беспокойную этику. Этика, которая не боится сложности, но обитает в ней как в своем собственном пространстве.
В эпоху, когда, кажется, рушатся все связи, все обещания, все доверие, точка зрения французского философа напоминает нам, что справедливость все еще может иметь лицо. И что это лицо — лицо другого: хрупкое, конкретное, неповторимое. Нет этики без политики, нет любви без институтов. Но нет справедливости без беспокойства. Именно в этом беспокойстве, в этом вечно неудовлетворенном порыве к другому мы все еще можем верить в возможность хорошей жизни.
Новости и аналитика политических, экономических и финансовых событий.
Зарегистрироватьсяilsole24ore





